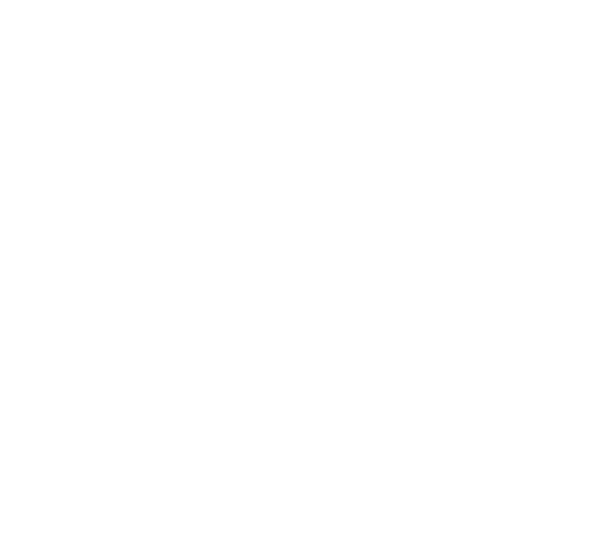
ДОРОГИ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ СТОЛИЦЫ
Дороги к столицам — дороги жизни
Словно по линиям розы ветров на старинной карте, намечающей маршруты дальних странствий, расходятся от Москвы по всем направлениям лучи дорог. Важнейшим трассам сегодня придан статус федеральных автомагистралей, их обозначают в соответствии с определенным номерным кодом — М-1 и далее по порядку. Современные скоростные шоссе проложены по направлениям, заданным многовековой эпопеей роста Российского государства. Их векторы напоминают нам об этапах возмужания державы, о древних неразрывных связях Москвы с иными столицами — с ее предшественниками, молодыми последователями или соперниками и вечными соседями.
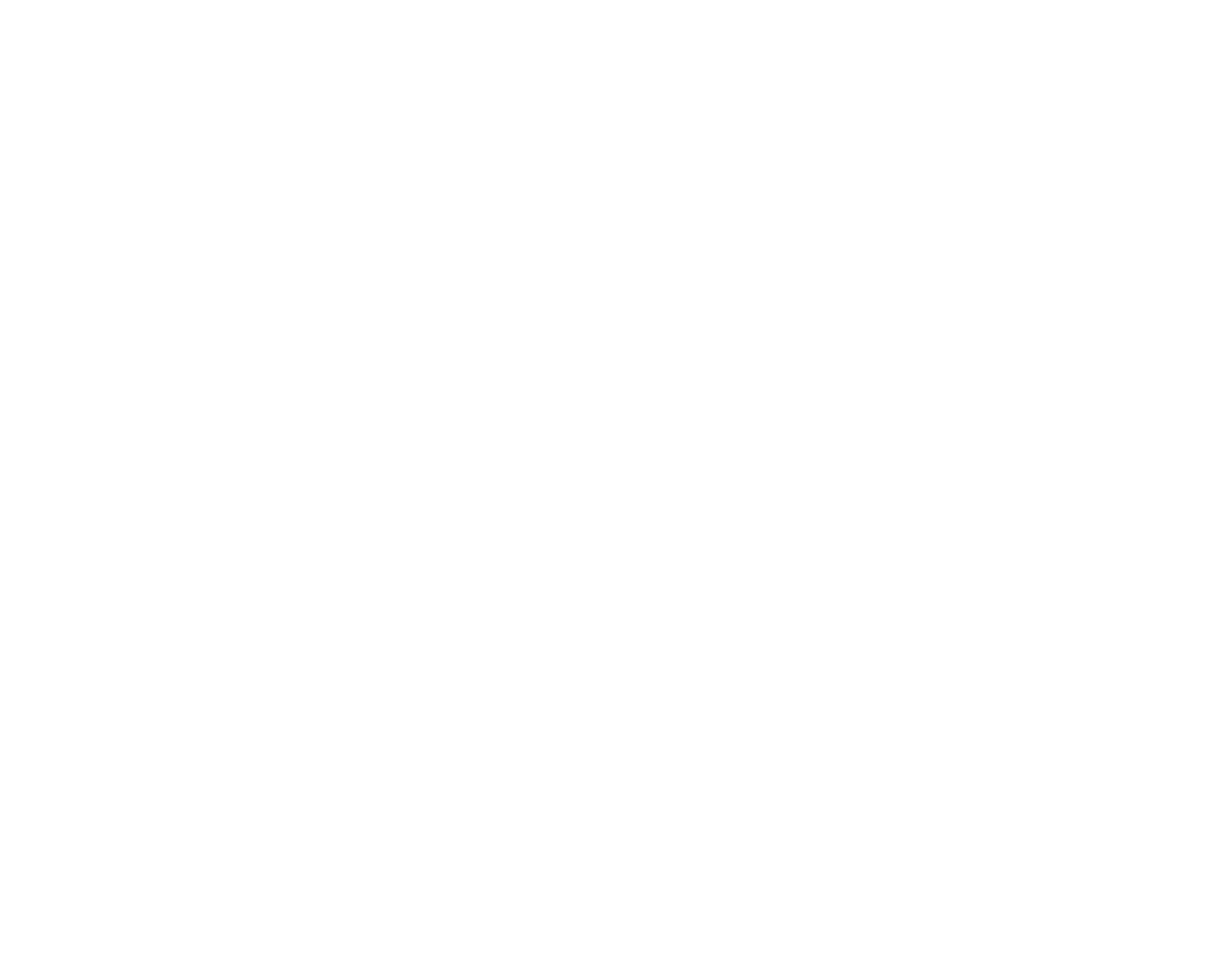
Мы приглашаем читателя совершить путешествие «от Москвы до самых окраин» по трассам, представляющим главные маршруты исторического выбора России. Via est vita — «Дорога — это жизнь», — так говорили древние римляне, оставившие потомкам не только стратегические имперские магистрали, но и образ дорожной сети, объединяющей, стягивающей разнородные этнокультурные пространства вокруг единого политического, хозяйственного и сакрального центра империи — Вечного города. «Все пути ведут в Рим», гласит старинное изречение… Третий Рим унаследовал от Рима древнего идею центра, от которого начинают отсчет измерения трасс, ведущих во все концы государства, во все стороны света. Но история подарила нашей стране особую судьбу — воплощать в своем развитии ‹цветущую сложность» Евразии, симфоническое многообразие не только народов и вер, но и государственнических традиций континента.
Длинный перечень городов, помнящих о своем столичном статусе, обусловлен, с одной стороны, многовековой сагой «собирания земель» — вхождением в состав России княжеств и царств, имевших свои сложившиеся центры. Новгород и Тверь, Касимов и Смоленск, Казань и Астрахань и множество других городов, вплоть до небольших ныне поселений, обладают собственными «столичными летописями»; об их высоком и славном прошлом свидетельствуют архитектурные памятники, храмовые реликвии и музейные сокровища.
С другой стороны, созвездие столиц России воплощает совершавшуюся передачу державной миссии. Каждая эпоха выдвигала на первый план определенный город, перенимавший эстафету первенства и бремя ответственности «стольного града земли Русской» от своего предшественника. Величие и блеск прежней столицы отходили в область преданий (вспомним образ Киева в былинах). Старые центры — державные, великокняжеские, удельные — удерживали за собой моральный авторитет и право критиковать «суетную жизнь» новых столиц. Овеянные духом «святой старины», даже оказавшись временно на обочине государственной и общественной жизни, они оставались местом притяжения паломников, богомольцев. Таковы судьбы Ростова Великого, Суздаля и Владимира, а когда-то и Москвы-матушки.
Сегодня многоцветье исторических центров отражается в федеративном устройстве государства, служит духовной базой российского федерализма. Только подлинно великая держава может позволить себе иметь такую россыпь столиц!
Формирование России было неразрывно связано с обустройством дорог «от града до града», от столицы до столицы. Само рождение единой державы, вобравшей славянский, балтский, тюркский элементы, во многом обусловлено мощным «трафиком», непрекращавшимся движением по великим транспортным коридорам древности и раннего Средневековья. Это прежде всего пути «из варяг в греки» и «из варяг в арабы», волжско-балтийский путь. Словно бусины, нанизанные на эти транспортные нити, возникали и росли города — Старая Ладога, Новгород, Киев, Булгар, Итиль. Их соединение под одной «державной рукой» было исторически предопределено и являлось лишь вопросом времени.
Северо-Восточная Русь, ставшая новым ядром государственности, первоначально была транзитной территорией на волжско-балтийском пути. Постепенно она привязывала к себе торговые маршруты, наращивая дорожную сеть. В ХIV веке, в период подъема земли после ордынского разгрома, Москва была связана уже не только с традиционными партнерами Торжком и Новгородом, но и с германскими, польскими и литовскими землями, Ригой и Киевом. С Волги в Москву везли изделия ремесленников Сарая и Дербента, восточные пряности и ткани. Именно этой международной торговле обязаны своим богатством князья Московского дома — Иван Калита и его потомки.
Эта реальная открытость миру, столь контрастирующая с укоренившимся в литературе образом замкнутой в себе, закрытой от «инородцев», угрюмо-благочестивой Москвы, нашла выдающееся и весьма убедительное отражение в градостроительном облике столицы, в ее радиально-кольцевой планировке. Древние московские улицы — Ордынка, Дмитровка, Стромынка, Тверская и другие — брали свое начало в центре столицы (не случайно сегодня у Красной площади установлен символический знак «нулевой километр» — точка отсчета российских дорог). Они лучами расходились от Кремля, пересекали кольцеобразные стены московских укреплений — Белого и Земляного города — и за городскими заставами перерастали в тракты, которые устремлялись всё дальше и дальше к рубежам государства, в иные земли.
…Дорога, наверное, потому является излюбленным образом поэтов, художников и философов, что она всегда предполагает двустороннее, встречное движение. Пути, соединяющиеся в столице и уводящие от нее, позволяют Москве на протяжении веков оставаться средоточием не только торгово-экономического обмена, но и цивилизационного, духовного диалога. Здесь бьется сердце Евразии, и биение его, благодаря волнам, пробегающим по транспортным артериям, ощутимо в самых отдаленных уголках континента.
С другой стороны, созвездие столиц России воплощает совершавшуюся передачу державной миссии. Каждая эпоха выдвигала на первый план определенный город, перенимавший эстафету первенства и бремя ответственности «стольного града земли Русской» от своего предшественника. Величие и блеск прежней столицы отходили в область преданий (вспомним образ Киева в былинах). Старые центры — державные, великокняжеские, удельные — удерживали за собой моральный авторитет и право критиковать «суетную жизнь» новых столиц. Овеянные духом «святой старины», даже оказавшись временно на обочине государственной и общественной жизни, они оставались местом притяжения паломников, богомольцев. Таковы судьбы Ростова Великого, Суздаля и Владимира, а когда-то и Москвы-матушки.
Сегодня многоцветье исторических центров отражается в федеративном устройстве государства, служит духовной базой российского федерализма. Только подлинно великая держава может позволить себе иметь такую россыпь столиц!
Формирование России было неразрывно связано с обустройством дорог «от града до града», от столицы до столицы. Само рождение единой державы, вобравшей славянский, балтский, тюркский элементы, во многом обусловлено мощным «трафиком», непрекращавшимся движением по великим транспортным коридорам древности и раннего Средневековья. Это прежде всего пути «из варяг в греки» и «из варяг в арабы», волжско-балтийский путь. Словно бусины, нанизанные на эти транспортные нити, возникали и росли города — Старая Ладога, Новгород, Киев, Булгар, Итиль. Их соединение под одной «державной рукой» было исторически предопределено и являлось лишь вопросом времени.
Северо-Восточная Русь, ставшая новым ядром государственности, первоначально была транзитной территорией на волжско-балтийском пути. Постепенно она привязывала к себе торговые маршруты, наращивая дорожную сеть. В ХIV веке, в период подъема земли после ордынского разгрома, Москва была связана уже не только с традиционными партнерами Торжком и Новгородом, но и с германскими, польскими и литовскими землями, Ригой и Киевом. С Волги в Москву везли изделия ремесленников Сарая и Дербента, восточные пряности и ткани. Именно этой международной торговле обязаны своим богатством князья Московского дома — Иван Калита и его потомки.
Эта реальная открытость миру, столь контрастирующая с укоренившимся в литературе образом замкнутой в себе, закрытой от «инородцев», угрюмо-благочестивой Москвы, нашла выдающееся и весьма убедительное отражение в градостроительном облике столицы, в ее радиально-кольцевой планировке. Древние московские улицы — Ордынка, Дмитровка, Стромынка, Тверская и другие — брали свое начало в центре столицы (не случайно сегодня у Красной площади установлен символический знак «нулевой километр» — точка отсчета российских дорог). Они лучами расходились от Кремля, пересекали кольцеобразные стены московских укреплений — Белого и Земляного города — и за городскими заставами перерастали в тракты, которые устремлялись всё дальше и дальше к рубежам государства, в иные земли.
…Дорога, наверное, потому является излюбленным образом поэтов, художников и философов, что она всегда предполагает двустороннее, встречное движение. Пути, соединяющиеся в столице и уводящие от нее, позволяют Москве на протяжении веков оставаться средоточием не только торгово-экономического обмена, но и цивилизационного, духовного диалога. Здесь бьется сердце Евразии, и биение его, благодаря волнам, пробегающим по транспортным артериям, ощутимо в самых отдаленных уголках континента.